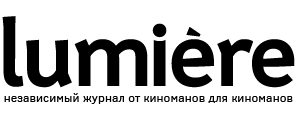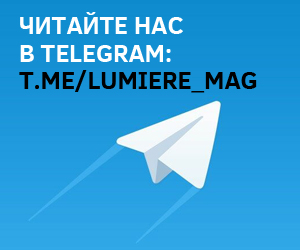В этом мире правды нет…
Абсолютно правды нет…
Абсолютной правды нет…
Мы летим на ложный свет…
(Слот – «Над пропастью во лжи»)
Что наша жизнь – инсценировка, догадывался ещё Уильям Шекспир. Не от нас, а от неведомого Рока часто зависит наша судьба. Американский режиссёр Джон Джост не был фаталистом в классическом смысле. Скорее он тяготел к экзистенциальной проблематике, привнося античную эстетику в типично западный жанр роуд-муви. Хотя экзистенциализм и оформился как течение в европейской мысли лишь после Второй мировой войны, безусловно, ни Сартр, ни Камю, ни Хайдеггер не были первопроходцами. Свобода выбора и ответственность за него – такая мыслительная позиция была характерна для Фёдора Достоевского и Льва Толстого. Впрочем, ведь и античные авторы понимали Рок не как внешнюю силу, а скорее как закон самой жизни – каждое действие порождает последствия. Не поступи человек так, сделай по-другому – возможно, была бы иная судьба.
Впрочем, не только история, но и жизнь не имеет сослагательного наклонения. В дверь можно войти, но не выйти. Иначе говоря, нельзя ничего переиграть, отмотать назад. Лишь постмодернизм, объявив не только искусство, но и само бытие мистификацией, выдвинул на авансцену многовариантную реальность. «Криминальное чтиво», «Беги, Лола, беги» и ряд других фильмов молодых дарований 1990-х совершенно иначе, можно сказать, в антиэкзистенциальном ключе, решали вопрос свободы выбора. Если событие можно изменить, то выбор не влечёт за собой последствия, Рок не преследует героев, но в тоже время у них нет и свободы. Квентин Тарантино и Том Тыквер отказывают своим героям именно в свободе. Их персонажи – заложники собственной воли, марионетки авторской идеи, ни за что не отвечающие и ни в чём не виноватые. С того, кто не имел свободы, нельзя спрашивать ответа – он не несёт груза выбора и неподвластен суду совести.
«Инсценировка» Джона Джоста – тематический преемник фильмов про одиноких бунтарей, люмпен-пролетариев, бросающих вызов обществу: «Бунтаря без причины» (1955), «Бонни и Клайда» (1967), «Пустошей» (1973) – вплоть до собственного фильма Джоста, «Последних песен для медленного танца» (1977). Американский кинематограф прошёл долгий путь от романтизации маргиналов до, так сказать, прощания с иллюзиями. Вызов традиционной морали в виде насилия больше уже не прельщал режиссёров культом безграничной свободы. Ведь солипсизм, как доказал ряд трагических событий в США 1960-1970-х, вроде преступлений «семьи» Чарльза Мэнсона, показал свою нежизнеспособность. Он вёл лишь к разрушению.
Культурные парадигмы часто сменяют друг друга по спирали. Традиция приходит на смену протесту, который быстро поглощается обществом, ибо иначе рискует подорвать его основы и обратить общественные отношения в хаос. Однако едва ли многие режиссёры постромантической поры, обращавшиеся к маргинальным личностям, стремились увидеть в своих персонажах не носителей определённых воззрений, которые нужно непременно заклеймить как неверные, а людей. Иными словами, в их бунте разглядеть протест против индивидуального подавления личности. Джон Джост как раз был одним из немногих. Всегда тяготевший к европейской культуре, Джост открыл для себя как режиссёров французской новой волны (восхищался Жан-Люком Годаром, Эриком Ромером), так и экзистенциальную философию, сформировавшуюся как направление именно во Франции.

Рикки и Бет, главные герои «Инсценировки», вовсе не Бонни и Клайд. Их образы лишены романтического ореола. Это именно представители деклассированной молодёжи, не нашедшие себя в стране капитализма. Их жизнь – уже изначально инсценировка. Подобно Микеланджело Антониони («Забрисски Пойнт»), Джон Джост видит в их криминальном вояже по провинциальной Америке не только подсознательный вызов традиционным американским ценностям, но и бегство от себя, от ощущения собственной ненужности в стране, где уже давно никто не думает о душе и оценивает другого человека исключительно по его достатку. Джост видит истоки насилия, часто немотивированного, в том, что человек не чувствует себя нужным в обществе, что порождает нонконформистский протест.
Рикки, впрочем, оправдывает свои поступки и чуть ли не существование в мире леворадикальными идеями, с которыми отчасти согласен и сам режиссёр, особенно в части отрицания власти капитала. Слова Рикки о том, что деньги – обман, являются кредо и для Джоста. Однако постановщик понимает, что Рикки, как и многие другие бунтари поневоле, протестует не по убеждениям, а скорее от обиды на весь мир, где все богатства у кого-то другого, но только не у него. Получается почти по Толстому – бедные хотят стать богатыми и жить их жизнью.

Бетт же – всего лишь романтичная натура, мечтающая о настоящей любви, как в бульварных романах. Её увлечение Рикки – внезапная страсть к «плохому» мальчишке, не только не могущему, но и не желающему ответить ей взаимностью. Она для него – лишь плоть, но никак не душа.
Бессмысленный и безумный протест этих героев, слишком ничтожных, чтобы что-то кардинально изменить, заранее обречён. Их путешествие через весь штат – лишь дорога к смерти, приближающая их к позорной казни на глазах у праздной толпы.
Но там, где иной режиссёр завершает историю, считая свою задачу выполненной, Джон Джост фактически лишь начинает её. Подзаголовок фильма не случайно гласит: «12 сцен с единственно возможным исходом». А какой это исход? Только смерть. Рок привёл героев на скамью подсудимых. А постановщик искусственно растягивает заключительную треть фильма, чтобы зритель проникся отчаянием героев и чуть ли не бессмысленностью смертной казни, словно в соответствии с пафосом фильма Кшиштофа Кесьлёвского «Короткий фильм об убийстве». Наказание за смерть есть смерть. Со времён Хаммурапи и Ветхого Завета ничего не поменялось. Какой бы ни был век на дворе, какая бы экономическая модель ни доминировала в обществе, человек так и остался заложником пещерной морали, древних инстинктов мести как основы справедливости.

И Рикки, и Бет чувствуют приближение смерти задолго до того, как в их вены начнут вводить яд. Она витает в самом блоке смертников, а лица присутствующих при экзекуции выражают лишь жажду мщения.
Джост не был бы самим собой, если бы не сделал последнюю треть фильма именно в экзистенциальном ключе, когда два преступника поневоле впервые, возможно, осознают себя живущими. И так страшно, что эта жизнь вот-вот закончится. Перед развёрзшейся бездной меркнут все их тёмные дела. Подростковый максимализм и бунт от бессмысленности своей жизни явно не так страшны, как расчётливое и хладнокровное уничтожение оступившихся членов общества. Джост увязывает экзистенциальную тему с антикапиталистической. В мире доллара не может быть сочувствия. Нарушившего негласный договор ждёт немедленная кара, и никакого прощения.
И только неравнодушный автор не желает отпускать своих героев в пустоту. Применяя двойную экспозицию, он заставляет звучать их голоса на фоне миллиарда песчинок, как бы земли, которой скоро засыпят их свежие могилы. Как жили, так и умерли. И никто не вспомнит о них.
В то время как Тарантино в вышедшем чуть позже «Криминальном чтиве» занимался постмодернистским коллажем, едва ли интересуясь судьбой своих героев, Джон Джост не желает мириться с пустотой, поглощающей души, в которой навсегда стихают голоса. Косвенная вина в преступлениях Рикки и Бет лежит на самом обществе, где решительно надо либо иметь много денег, либо кого-то убить, чтобы на тебя обратили внимание. Оттого суд и казнь не приносят зрителю умиротворения. Это не справедливость, а инсценировка. Как, собственно, и весь капиталистический мир.